...И БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕВОЙ СЕЗОН

Вся трудовая биография Павла Андреевича Коваля - а это 46 лет - связана с геологией. Больше того - с геологией Камчатки. В 1951 году, закончив Львовский нефтепромысловый техникум, он приехал на далекий полуостров работать геологом-нефтяником. Правда, со своей узкой специализацией он расстался уже через два года. Но вовсе не потому, что разведку нефтяных месторождений считал неперспективной. Наоборот, он всегда верил, что выход нефти, который впервые обнаружили на реке Богачева два камчатских охотника - не случайность, не "обманка", и что все последующие поиски "черного золота", которые велись и на реке Воямполка в 30-е годы, и заложенные до войны скважины, и послевоенные когда-нибудь дадут результат. И конце 70-х, начале 80-х нашли первые проявления, а сегодня геологи уже говорят о возможности промышленной добычи нефти. "Я очень рад, что это все-таки произошло", - говорит сегодня Павел Андреевич, уже пенсионер, но по-прежнему живущий заботами своих более молодых коллег.
Два года проработав в районе реки Богачева, он перешел в геолого-съемочную экспедицию - и оставался там уже до самой пенсии. Был и просто геологом, и геологом-прорабом, и начальником геологической партии. В то время как раз начинались съемочные работы - то есть создавалась карта полезных ископаемых полуострова. Были карты географические, топографические, а вот такой не было. И П.А.Коваль практически стоял у истоков этого начинания.
"Самые тяжелые маршруты были, когда мы проводили "миллионную" съемку, - вспоминает Павел Андреевич. Мне, как полному дилетанту, объясняет, что "миллионная" - съемка - самый первый этап в создании геологической карты, это уже потом пришла очередь "двухсоттысячной", когда маршруты проходят по квадратам через каждые два километра и геологи фиксируют все геологические особенности местности более детально. - Мы ходили 15-дневными маршрутами от побережья на Срединный хребет и обратно. В 53-м году работали в районе Тымлат-Оссора-Карага-Дранка. Помню, первым маршрутом пошел в Тымлат, оттуда в Лесную, и уже потом - в Карагу - а там у нас был перевалочный пункт, куда завозили продукты. Все четыре группы там и встречались. После первого маршрута - он занял 13 дней - мы не узнали друг друга. Отощали так поначалу. Много продуктов ведь не возьмешь - все на себе несли, в рюкзаке: и провизию, и спальный мешок, и инструменты, и образцы. Питание брали из расчета - кружка риса на троих на одну кашу, 2 раза ее варили - утром и вечером. А в обед чай пили с лепешками, которые накануне, прежде чем спать лечь, пекли - на палочках над костром. Сахар брали из расчета 3 кусочка в день на человека. Конечно, было питание, но иногда его разнообразили - то рыбу поймаем, то дичь подстрелим из карабина, да собирали по пути грибы, ягоды. В общем, в первых маршрутах исхудали до неузнаваемости, а к осени - ничего, поправились, окрепли. Идти тяжеловато приходилось. В иной день проходили до 30 км - но это если по ровному месту, а в хребтах, конечно, в среднем по 15-20 километров осиливали. Шли так: первым геолог - описание ведет, вторым геофизик - замеряет радиоактивность, третьим шлифовальщик - промывает породы. Случалось, что такой участок попадался - половину дневной нормы едва удавалось пройти. Однажды по пути из Тымлата в Карагу встретился нам каньон на пути. Спустишься по обрыву, пройдешь с километр - опять подъем. По прямой за тот день прошли 8 километров, ну, а в действительности раза в три, наверное, побольше. Правда, мне ходьба, даже с тяжелым рюкзаком, никогда не была в тягость. Легко давалась - сказывалось, что всегда спортом увлекался.
И вот так, год за годом, Павел Андреевич ходил маршрутами по Камчатке. Ему больше работать пришлось на западном побережье -прошел от Паланы до юга полуострова . В последний полевой сезон - в 1987 году - маршрут пролегал от Большерецка до Озерной. В те годы геологическое изучение Камчатки велось очень интенсивно. И к 1990 году белых пятен не осталось - 200-тысячной съемкой покрыли всю территорию полуострова. Потом, по проектам еще социалистического времени, должны были переходить к более детальной 50-тысячной съемке. И даже уже начали работы, но - началась перестройка, денег ни на что не стало, пошли сокращения.
Обидно, говорит, Павел Андреевич. Столько людей трудились в тяжелых, порой просто невероятных условиях, чтобы появилась эта карта - карта полезных ископаемых Камчатки. Ведь что такое съемка в масштабе "в 1 см - 200000 см"? Рабочая территория делится на квадраты по 60 км, по ним маршруты через каждые 2 км. И нужно рассмотреть все виды пород, все признаки, даже мельчайшие, проявления руд, золота, по которым можно судить о прогнозных запасах на глубине двух км. По карте, на которую нанесены все эти данные, видно, на каких площадях можно планировать те или иные виды работ, чтобы целенаправленно планировать работы поиска полезных ископаемых. Эта карта - и основа для планирования работ по разработке полезных ископаемых. Хотя именно с этим у нас не очень активно идут дела. Например, Павел Андреевич недоумевает: разведано Крутогоровское месторождение углей - запасов на 300 лет хватит. Можно обеспечить Петропавловск, Елизовский район, но уголь продолжают привозить с материка или Сахалина. И потом везти, допустим, в Мильково - от областного центра это 300 километров. А с месторождения - всего 150. Да и разве только с углем так?
Как я понимаю Павла Андреевича. Годы труда, результаты которого когда-то еще будут востребованы. Да и будут ли... Это ведь со стороны геология - романтика: песни под гитару, ночные костры, героические открытия. И не понять тем, кто не был "в полях", как даются эти километры маршрута по бездорожью, как донимают комары и мошка, как докучают дожди или палящее солнце. "Был у вас какой-то особенно интересный, необычный сезон?" - задала я вопрос Павлу Андреевичу, и через минуту поняла, насколько он наивен.
- Да все полевые сезоны были похожи, ничего особенного не происходило...
Все геологи почему-то всегда именно так и отвечают, когда их просят рассказать что-нибудь увлекательное. Ну попробуйте "увлекательно" описать свою работу, особенно ее самые напряженные моменты. Конечно, в каждом сезоне у Павла Андреевича были какие-то события, о которых и сейчас вспоминает. Но не обо всем ведь будешь рассказывать. О чем-то только коллеге можно - "чужой" не поймет. О чем-то - в неформальной обстановке, иначе колорит теряется.
Но про первый свой рабочий день он мне рассказал с удовольствием. Дело в том, что прошел он с замечательным приключением. Приехал на Камчатку молодой специалист Коваль 3 августа, в конторе пусто - весь народ в полях. И ему говорят: получай снаряжение, вот тебе три человека, и - в поле. Погрузились они на деревянный кунгас, груженный кирпичом. И катер потащил их. Ночь наступила. Геологи палаточку разбили, спать собрались. Но часика в два ночи почувствовали: что-то не то происходит. Смотрят - точно длинный трос, на котором их тащили на буксире, оборвался.
- Катер ушел. А нас развернуло и погнало в море. Разбудили баржевика, говорим - есть ракеты сигнальные? Нету, говорит. И рации нету. Стали думать - что делать? Нашли немного мазута в каком-то ведре, у телогрейки оторвали рукав, сделали факел, подожгли. А катер идет себе вперед, ничего не замечает. Второй факел сделали. Безрезультатно. Думаем: ну должны же когда-то увидеть нас? Нас все дальше в море несет. Темно, нигде ничего и никого. И сделать ничего не можем. Прошел час, другой - смотрим, огонек появился в стороне берега. Оказывается, на катере спохватились, что налегке идут, пошли назад. Мы опять факел зажгли. Они, на катере, увидели огонь, подошли, подцепили кунгас уже на короткий трос. Ну, благополучно закончилось приключение. Мы даже не простыли.
Почему, имея за плечами 46 лет работы, геолог Павел Андреевич Коваль рассказал именно про этот, первый день молодого специалиста? Возможно, оттого, что с него, с этого августовского дня и начался отсчет его полевых сезонов. До самого 1988 года, когда впервые в маршрут пошли другие - а он остался "в конторе" на камеральных работах. А этот момент наступает в жизни каждого геолога.




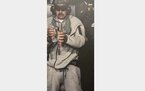


Комментарии читателей Оставить комментарий