В книге описаны не только территории других планет, но и сама структура взаимоотношений внутри Согласия, которая...
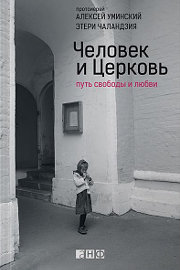
Эта книга - настоящее открытие для тех, кто стремится к вере или просто хочет понять, почему верят другие
Отношение к православной литературе сегодня разное. Да и к Православию, собственно, тоже. С одной стороны, есть благоговение, доверие, интерес, а с другой – подозрительность, настороженность, подчас даже презрение, граничащее с агрессией.
Между тем, и сама-то православная литература очень разная. Есть святоотеческие писания – будь то «Лествица» Иоанна Лествичника или труды Григория Богослова, – признанные, авторитетные, но насколько прочтённые? Есть поздняя классическая, если можно так выразиться, православная литература: например, «Аскетические опыты» Игнатия Брянчанинова или – ещё современнее – книги Антония Сурожского. Она написана проще, доступнее, но, как и святоотеческие тексты, востребована весьма ограниченным кругом.
Из более массового – православная беллетристика. Явление не новое, но отчасти подзабытое, однако вышедшее на новый виток во многом благодаря полуторамиллионному тиражу книги Тихона Шевкунова «Несвятые святые», породившей значительное число аналогичных по концепции и оформлению, но принципиально отличных по содержанию и качеству текстов.
«Несвятые святые», где стандартная для христианских книг основа укрепилась худлитовскими конструкциями, стала абсолютным бестселлером и диагностировала интерес общества к православному чтению. Секрет успеха книги можно объяснить вынесенными на её обложку словами: «Всякий православный христианин может поведать своё Евангелие, свою Радостную Весть о встрече с Богом». А если свидетельствовать не самому, то прикоснуться через близкое ему Слово.
Прочитанная мной на днях книга о. Алексея Уминского и Этери Чаландзия «Человек и Церковь: путь свободы и любви» – несколько из другой, нежели произведение Тихона Шевкунова, категории. Это скорее хрестоматийная православная литература, где авторы по главам рассматривают доминантные аспекты христианского бытия: человек и Церковь, человек и Бог, любовь и семья, искусство и религия, священники и т.д.
Однако, упоминание «Несвятых святых» в контексте книги о. Уминского и Чаландзия отнюдь не случайно, потому что достоинства у неё те же: лёгкий слог, актуальность, увлекательность повествования. Собственно, «Человек и Церковь» – удачный пример того, когда манера изложения подчёркивает глубину произнесённого. Собирательный же читательский образ книги о. Уминского и Чаландзия – это человек современный, интегрированный в технократическое общество, но не чурающийся извечных «проклятых вопросов».
Интерконтекстуальность, многоплановость «Человека и Церкви» во многом объясняется тем, что писали её разные и в то же время тянущиеся друг к другу люди.
Протоирей Алексей Уминский – человек в православном мире известный: настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, духовник Свято-Владимирской гимназии, ведущий телепередач, публицист. О миссии священника говорит следующее: «По-настоящему он должен только одно: уметь с Богом разговаривать». Этери Чаландзия – известная журналистка и прозаик, работавшая на радио и телевидении. В общем, и словом, и материалом авторы, что называются, владеют.
Действительно, книга «Человек и Церковь» написана упругим, лаконичным, но в то же время сочным, концентрированным слогом, отсекающим многое лишнее, наносное. И сам материал, поданный таким образом, точен, компактен; тщательно структурированный, он акцентирует внимание на базисных моментах. Похоже на шпаргалку, где приведены основные тезисы изучаемого предмета. Но схема эта живая, интерактивная, напоминающая сад расходящихся тропок – отправься по одной из них и тебе откроется новый ещё более яркий, многообразный мир. А иначе в Православии быть и не может. Тут «самое главное – готовность выйти из собственной скорлупы. Усомниться в своей непобедимости и монолитности».
О. Алексей Уминский и Этери Чаландзия гармонично соблюдают баланс между хрестоматийностью и увлекательностью, между церковными догмами и собственными трактовками. Педантично, скрупулёзно поданная информация об истории христианства или значении цветов в одеждах священника чередуется с достаточно вольными размышлениями, зачастую несовпадающими с официальной позицией Церкви, о введении православного образования в школах или поступке и наказании Pussy Riot. Божественное органично переплетается с человеческим.
С одной стороны, книгу протоирея Уминского и журналистки Чаландзия можно назвать пособием для тех, кто ещё не готов штудировать «Закон Божий» Серафима Слободского, но уже прошёл церковные азы, для человека в той ли иной степени религиозного, а с другой – это занимательное, развивающее, чтение, вспоминая классификацию Сёрена Кьеркегора, и для обывателя, и для этика, и для эстетика.
Ведь текст «Человека и Церкви» изначально написан с двух позиций – церковника и интеллектуала. От того авторы цитируют не только Новый Завет и Ефрема Сирина, но и Ницше, Бродского, Толстого и даже У. Берроуза, а чаще всего обращаются к «Сказанию об аде и рае» Клайва Льюиса.
Подчас данный разброс создаёт определённый диссонанс, и флуктуация от церковного вектора нарастает, забивая главное и всё же привнося лишнее (особенно, когда авторы начинают скупо размышлять об искусстве), но погрешности эти не отменяют доминанты: «Человек и Церковь» – книга одушевлённая, чтение её пробуждает.
«Самое главное, что может случиться в жизни человека, – это встреча с Богом». Так пишет Уминский, и так писал Антоний Сурожский. В таком случае живое слово книги «Человек и Церковь» намечает территорию, где лучше – и как лучше – ходить, дабы божественная встреча всё-таки состоялась. Как она состоится – это другой, недетерминируемый человеческим пониманием вопрос, ибо «вера – это самый главный риск, потому что она – это не-знание».
В своей книге о. Алексей Уминский и Этери Чаландзия по сути декларируют вечную истину, которую и пастыри, и паства подчас забывают: в основе церковного учения, церковного бытия неизбежно присутствуют идеи и личность Иисуса Христа. Они веками определяют незыблемую суть Православия, остающегося святым ковчегом спасения, несмотря на «человеческое, слишком человеческое» его пассажиров. «Христос всё равно остаётся Христом, святость остаётся святостью, любовь остаётся любовью, милость Божия остаётся милостью Божией».









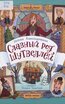


Комментарии читателей Оставить комментарий