Книга заканчивается путчем 1991 года, который автор наблюдал воочию и подробно задокументировал
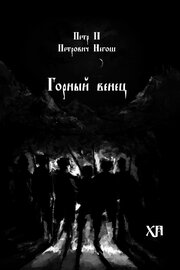
Патриархально настроенным славянам кажутся дикостью привычки итальянских аристократок передвигаться в паланкинах и страсть венецианцев к низкопробным театральным представлениям
Периодически в обществе возобновляются дискуссии о теократическом государстве, идея которого в нашем расслабленном обществе имеет немало противников. У этой политической модели есть пример очень удачной реализации — Черногория, где после ухода с арены царских династий правили митрополиты, способные держать в узде расколотое население и способствовать отражению турецкой и западной экспансии.
Любопытный факт: Митрополит Петр II Петрович Негош, правивший Черногорией в первой половине XIX века, и по сей день считается одним из самых значимых поэтов этого государства. Владыка ориентировался на Пушкина, с которым во время первого визита в Россию ему встретиться в Санкт-Петербурге так и не удалось, а во второй приезд уже после роковой дуэли даже возникла легенда о том, что, будучи в Пскове, митрополит якобы посетил могилу нашего гения.
Вершинным произведением самого Петра II Негоша является драматическая поэма «Горный венец» об освободительной борьбе сербов против потурченцев — бывших соотечественников, принявших ислам и начавших жить по законам оккупантов. В центре произведения — происшедшее на рубеже XVII-XVIII веков при владыке Данииле восстание. В поэме постоянно мелькают апелляции к герою сражения на Косовом поле Милошу Обиличу и других доблестных воинов, отказавшихся мириться с постоянным подчинением туркам. Описано множество обычаев, вроде гаданий мужчин по бараньей лопатке, деятельности рыщущих по ночам ведьм и свадебных игрищ. Конечно же, силен в «Горном венце» и религиозный подтекст: самые сокровенные мысли о красоте Православия вложены в уста слепого игумена Стефана.
Сегодня невероятно актуальны выпады, имеющие место в «Горном венце» против экспансии Европы. В поэме невероятно живо описаны сатирические рассказы побывавших в Венеции черногорцев о местных нравах. Патриархально настроенным славянам кажутся дикостью привычки итальянских аристократок передвигаться в паланкинах и страсть венецианцев к низкопробным театральным представлениям. Этим сомнительным увеселениям в «Горном венце» противопоставлены народные песни и обрядовые плачи.
В СССР «Горный венец» издавался в двух основных переводах: в 1948 году в переложении сподвижника Николая Гумилева и Анны Ахматовой Михаила Зенкевича и в конце 80-х в интерпретации великого Юрия Кузнецова. Перевод Зенкевича считается более парадным, в духе «сталинского ампира», а почвенник Кузнецов точнее передает нерв славянофильства и раздольную стихию народной речи («цыц, дурак, не Рождество ли ныне?»). Неслучайно для нынешней публикации издательство «Спасское дело» предпочло кузнецовский вариант. Недаром Юрий Поликарпович настолько сроднился с поэтикой «Горного венца», что она уже 90-е аукнулась в его авторской «Сербской песне».
Удобное и эстетское издание уменьшенного формата с мелованной бумагой, закладкой-тесьмой и иллюстрациями Николая Шеффера снабжено весомой справочной информацией. Помимо подробных примечаний, здесь можно найти послесловие переводчика двух вышедших в «Спасском деле» ранее поэм Петра II Негоша - «Луч микрокосма» (2016) и «Лжецарь Степан Малый» (2019) Олега Мраморнова. Из него мы узнаем немало познавательного о взаимоисключающих источниках воспитания будущего поэта-государственника и его драматичном приятии сана.







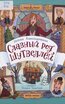



Комментарии читателей Оставить комментарий