«Все не так страшно или не так радостно»

Президент России решил сделать то, чего нам в последние годы сильно не хватало. Он решил активизировать общественную дискуссию о путях достижения тех задач, которые он провозгласил. Надо сказать, что задачи все правильные, никто не спорит. Но при этом все говорят, что задачи – декларативные. Что нам надо уйти от сырьевой зависимости, модернизировать страну некими методами, отличными от тех, которые использовали Петр I и Иосиф Виссарионович Сталин. Можно оставить за скобками дискуссию на тему «Хороши ли были методы и каково качество модернизации петровской или сталинской». Вопрос в том, что у нас нет того ресурса, которым обладали они. Сталин использовал огромный экстенсивный ресурс – российскую деревню, наличие колоссальных, избыточных трудовых ресурсов. На самом деле одна из задач социальной стабилизации России, как ее формулировали наши выдающиеся экономисты Чаянов и Кондратьев, состояла в том, чтобы поглотить избыточное трудовое сельское население. Но трудопоглощение этого населения не могло решить задачи даже интенсивного промышленного развития в тех формах и тех масштабах, который мог себе позволить русский капитализм того времени. Все это привело к русской революции.
'''Развал страны в 90-е стал следствием психотравмы'''
Сталин зверским путем эту задачу решил. Можно сказать, что он очень низкоэффективно использовал этот ресурс, если мы будем говорить об индивидуальной производительности труда. Если же мы будем говорить о комплексном решении социальных, модернизационных, оборонных задач, то решение было настолько же зверское и негуманное, насколько и эффективное. Если мы гуманистический, христианский фактор выведем за скобки, то оно было оптимальным. Но мы не можем выводить его за скобки. Это – одна из причин, почему я полностью согласен с президентом в том, что сталинские и петровские методы модернизации нам не годятся. Речь идет даже о выборе, который не замыкается в рамках морали, потому что в христианской стране – такой, какой Россия была и остается – проводить модернизацию сталинскими методами можно, но потом это аукается глубокой общественной психотравмой. Развал страны в 90-е стал следствием психотравмы. При этом у нас нет самих трудовых ресурсов. На самом деле это – тема для достаточно продолжительной дискуссии о том, насколько у нас реален номинальный дефицит трудовых ресурсов, если отвлечься от их структуры, от того, что традиционно местное население отказывается заниматься определенными видами деятельности. Но в целом говорить о том, что у нас – избыток трудовых ресурсов, я бы не стал.
'''В нашей традиции конструктивность и оппозиция – вещи несовместимые'''
Так вот президент поставил задачи, которые разделяются подавляющим большинством российского общества. Но проблема в том, и ее никто не скрывает, что дискуссия на тему «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным» предмета под собой не имеет. Вопрос в том, как этого добиться. И как раз обращение президента – это призыв к тому, чтобы обсуждать, чтобы создавались и множились некие площадки.
Видно, что власть старается втягивать в эти площадки т. н. конструктивную оппозицию. Но у нас конструктивной оппозиции мало. В нашей традиции конструктивность и оппозиция – вещи несовместимые. Достаточно посмотреть на такого персонажа, как Немцов. В прочитанной мной недавно брошюрке было написано, что он – резкий противник роспуска партии СПС и превращения ее в прокремлевское «Правое дело». Интересно, что он имел в виду под словом «прокремлевское»? То, что «Правое дело» не добивается сноса Кремля, причем с применением на то иностранной помощи? В этом смысле, конечно же, «Правое дело» – партия «прокремлевская». Но в этом смысле все люди, которые соблюдают российский Уголовно-процессуальный кодекс, являются прокремлевскими, и тем самым в настоящую оппозицию не годятся.
На самом деле дискуссионные площадки, о которых говорит президент, есть. Я не говорю сейчас о том, что они эффективно работают, что началась дискуссия в рабочем режиме, когда люди обмениваются взаимосопоставимыми мнениями. Дело в том, что пока сам язык дискуссии не выработан. Это – первая составляющая.
Вторая составляющая – это те политические подтексты, которые определенные товарищи, стоящие не то что близко к президенту, а притирающееся близко к президенту, пытаются подкладывать под слова президента. Яркий представителем этих товарищей является некто Юргенс. Это – один из самых бледных и скромных представителей нашего бизнес-лобби, который вдруг превратился чуть ли не в брутального вождя перемен. Я бы хотел обратить внимание на то, что открытию ярославского форума предшествовало некое достаточно концептуальное заявление Юргенса. Это было единственное жесткое, заточенное, хотя и произнесенное в корректной форме, алармистское по содержанию заявление. Суть его сводилось к тому, что наш президент с невиданной силой раскрыл, как все было плохо, и призвал к тому, чтобы все было иначе, что мы вступаем в эпоху перемен с прозрачным намеком на отказ от «перегибов путинского времени». Далее Юргенс сказал о том, что Россия должна идти дальше по пути демократизации. И вот сейчас мы должны определить темпы и стратегию нашего движения к дальнейшей демократизации и интеграции в мировое сообщество. Две эти вещи были даны в связке, что, на мой взгляд, очень забавно. Завершил свое выступление Юргенс словами, что сейчас выступит президент, и это будет вехой на пути.
'''Стандарты не должны быть двойными, они должны быть общепринятыми'''
К счастью, ни один из выступавших, включая иностранных гостей, никаким образом эту провокативную трактовку г-на Юргенса не подтвердил. Политологи, профессора, политики традиционно выступали в рамках своих известных идей. Сам Медведев был открыт. Присутствующие на конференции испанский и французский премьеры были крайне комплиментарны к России. В их заявлениях не было ничего конфронтационного. Тональность заявлений была абсолютно открытой, я бы сказал, что за последнее время – беспрецедентно дружественной. Хотя ничего фундаментального сказано особенно не было.
Естественно, президентская речь звучала вполне в унисон. Внимание стоит обратить на то, что президент сказал о том, что мы, в принципе, готовы к тому, чтобы нас оценивали по неким внешним стандартам, в т. ч. и нашу демократию. Если несколько перефразировать высказывание президента, то сводилось оно к тому, что стандарты не должны быть двойными: они должны быть общепринятыми и равными для всех. В этом можно было заподозрить реализацию надежд Юргенса. Но наш президент – вполне адекватный человек. Он понимает, что в этом и есть основная проблема – презумпция лояльности. Нам ни практика, ни теория не дают никаких оснований подозревать наших западных партнеров в заведомой лояльности.
На самом деле эти т. н. критерии оценки всегда бывают не общепринятыми, а общенавязанными. Если мы вспомним холодную войну в самые ее острые периоды, то даже тогда существовали общенавязанные критерии, поскольку были два сопоставимых друг с другом полюса. Существовал некий спектр деятельности, вряд ли касающийся политического режима, но напрямую касающийся международного права, в котором были критерии, которые являлись общенавязанными. И они кое-как действовали, посему международное право работало и сохраняло глобальный мир. Локального мира не было, и его никто и не обещал. На самом деле нет ничего плохого, если говорить о реальной политике, в том, что если в рамках этих общенавязанных критериев наша позиция будет в достаточной степени навязана. В достаточной мере, чтобы можно было работать с такими критериями. В международной политике всегда лучше опираться на какие-то приемлемые для нас нормы, чем не иметь никаких норм. Так что с точки зрения политического пиара и пропаганды это было очень уместное заявление Медведева. Зачем отказываться, ставить себя в неловкое положение, говорить, что нам совершенно плевать, как вы оцениваете наш политический режим? Нет, ребята, мы согласны. Но пусть критерии будут такими, чтобы они отвечали предъявляемым нами и вами к ним требованиям. Поскольку подобных критериев нет и в ближайшей перспективе не предвидится, то никакого ни прорыва, ни подрыва я за этим не вижу.
'''Это – иллюзия конца ХХ века'''
Если говорить о некоторых общетеоретических вещах, которые президент там же, в Ярославле, сформулировал, то надо отдать должное тому, что, вопреки расхожему тезису о том, что государство утрачивает свое значение, а транснациональные структуры в бизнесе, международные организации, надправительственные структуры приобретают все больший вес, президент прямо сказал, что это – иллюзия конца ХХ века, которая не подтвердилась практикой. Когда возник кризис, ни транснациональные структуры, ни международные институты ничего особо не сделали. Вся работа по сохранению социального мира, спасению экономики от коллапса легла на плечи национальных государств, правительств. Это говорит о том, что делегирование суверенитета как такового – вещь, конечно же, интересная, но на самом деле практически не актуальная. Если какая-то страна имеет возможность сохранять суверенитет, то это завсегда лучше, чем его делегировать. Это тоже скорее вытекает из тезисов президента, нежели чем идея о растворении семимильными шагами в неком международном сообществе. В этом я вижу у Медведева новую открытость. Мне кажется, что самоценна сама идея оптимизации дискуссии. Она лежит в русле его вкусов. На самом деле президент – модернист. Он склонен к современным технологиям передачи информации, к более яркой и открытой интеллектуальной дискуссии. Это чувствуется, и ничего в этом плохого нет.
'''Если они такие глупые, то почему они – такие не бедные?'''
На самом деле со всем этим связан главный вопрос, о котором никто не упоминает. Есть одна вещь, которой не хватает в этом супе, вне связи с новыми веяниями и приходом Медведева, – мотивационной части. Проблема же не в уме. Мне не кажется, что российские чиновники последних призывов были сильно глупыми. Если они такие глупые, то почему они – такие не бедные?.. Проблема состоит в мотивации. И это – не вопрос морализаторства. В основе мотивации государственного служащего в широком смысле этого слова должна лежать идея служения. Речь идет не о каком-то выдающемся бескорыстии. Корысть чиновника – это его продвижение по службе. Это как в армии: плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Автоматически плох тот солдат, кто хочет быть олигархом. Так что речь идет не о воспитании и не о порке на конюшне, а о системе подбора, а если шире – о политической системе, политическом строе, который бы автоматически отбирал на службу людей с такой мотивацией. И я могу заверить, что таких людей – больше чем достаточно. Я берусь утверждать, что их больше, чем нужно для государственной службы. Но почему-то в силу системы отбора они минимально проникают в эту службу, а попадают те, чья мотивация противоречит задачам, которые перед ними стоят. Ребята, значит, система – плохая. И вот на эту тему хотелось бы, воспользовавшись президентской инициативой, продавить хотя бы дискуссию. Хотелось бы обсудить то, что, в конце концов, представляет из себя то государство, которое нам нужно.
'''«Modern state and global safety»'''
Я обратил внимание на такую вещь, если говорить о ярославской конференции: там была написана тема конференции по-русски и по-английски. По-русски она была сформулирована так: «Современное государство и глобальная безопасность». А по-английски там было написано: «Modern state and global safety». Со второй частью все понятно. А вот относительно первой есть вопросы. Современное государство и modern state – вещи, не противоречащие друг другу, но все же различные. Почему не contemporary state, почему не today state? Что значит «modern»? Никто не обратил внимания на то, что базовое определение «современное государство» непонятно что описывает. Ребята, о каком вы государстве говорите? Что оно собой представляет и зачем оно нужно? Существует несколько концепций государства: традиционное государство, государство модерна, государство постмодерна и либеральное государство, которое в своем крайнем выражении является ночным сторожем, который нанят обществом для выполнения каких-то технических задач – такое глобальное ЖКХ. Или же мы говорим о государстве как идее? Если мы говорим о государстве чисто прагматичном, то тогда встает вопрос: «А является ли Россия в своих нынешних границах наиболее прагматичной формой государства по своей структуре? Может быть, его стоит переформировать?» Я вполне допускаю, что с точки зрения благосостояния, безопасности и т. д. совершенно не обязательно иметь такую страну, но население, вопреки этим тезисам, почему-то с властью такие вещи обсуждать не будет. А человека, который это провозглашает, заподозрят в измене и предательстве. И будут совершенно правы, потому что он совершенно другое государство имеет в виду. Но если государство другое, то и оценивать его надо по другим критериям. Вот эти вещи надо обсуждать. Этого хотелось бы услышать, но этого не слышно. Но мало ли, кто чего хочет…
Так что все не так страшно или не так радостно – в зависимости от того, кто чего хочет.




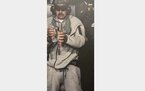


Комментарии читателей Оставить комментарий
20.09.2009 22:01 dboch
...ибо дела их были, что трава, выросшая единым порывом без ПРОЧНЫХ КОРНЕЙ! Под последнюю фразу мы можем смело вписать дела ПЕТРА, СТАЛИНА и прочих русских царей, и Вашу очередную навязчивую идею о перепашке поля воодушевленной или согбенной от страха ТОЛПОЙ. Это стратегия на несколько поколений, а такую стратегию может решать только мудрость, оформленная в практическую ФИЛОСОФИЮ.
*
...да да, эти веды мне знакомы ;))
Было время, было любопытно.
И всё же стоит отметить, что как вы изволли - мудрость, оформленная в практическую ФИЛОСОФИЮ - это сорее красивая иллюзия управления, нежели рельность (возможно и к сожалению?).
Лично я НЕ занаю примеров власти которая лишь мудурствует и НЕ применяет силу, опять же воимя выживания и самого общества, и себя любимой !?
Кстати и сами конфуцианцы яркий тому пример ;))
Господа, может, немного не в тему,но... Вас почитаешь, сплошная философия, просто жуть... Почему бы не проанализировать ситуацию с точки зрения простых технарей, представив страну этаким механизмом. Да, сложным, с кучей прямых и обратных связей. Но сначала нужно понять, чего этот механизм вообще должен делать, а уж потом, какие зап. части в него пихать. А так я вижу одни споры о том, какая из деталей вышла из строя и почему.. Может, я не прав, но...
Ржевскому.
А вот что говорит китайская книга мудрости "Да Де Дзин", о временах правления Шэнь, Хать, Шан Ян. Ребята, похоже, решали сходную задачу о том, как ТОЛПУ (а у китайцев это не проблема) заставить вспахать ПОЛЕ: "губили и резали, повернулись спиной к ДАО и благу и стали бороться из за ГРОШОВОЙ ВЫГОДЫ. Казнили простой народ что траву, погубили больше половины,... довольные считали, что они УПРАВЛЯЮТ. Это все равно, что спасать от огня, поднося хворосту.... Почему?" - (заменю аллегорический текст, краткой формулировкой), - ибо дела их были, что трава, выросшая единым порывом без ПРОЧНЫХ КОРНЕЙ! Под последнюю фразу мы можем смело вписать дела ПЕТРА, СТАЛИНА и прочих русских царей, и Вашу очередную навязчивую идею о перепашке поля воодушевленной или согбенной от страха ТОЛПОЙ. Это стратегия на несколько поколений, а такую стратегию может решать только мудрость, оформленная в практическую ФИЛОСОФИЮ.
"«СП»: - Но нам говорят, что правительство поднимает реальный сектор...
- Правительство делает вид, что занимается реальным сектором. Но на самом деле ничего не делает, и деньги системообразующим предприятиям не перечисляет. Мне кажется, оно уже крест поставило на промышленности, и не будет ничего делать. Поэтому судьба большинства российских предприятий плачевна - они неконкурентоспособны при таких издержках. Реальная экономика - это вторая проблема. Нас затянули в мощный промышленный спад, и последующую стагнацию. Все будет гнить, кроме нефти, газа и прямого импорта - торговых сетей. Ну и банковской системы, которая занимается спекуляциями. Но это очень маленький сектор."
"" реальная деловая активность в России очень сильно спала. Спад огромный. Этому еще помогает сама структура спекуляций. Наше правительство, вместе с корпорациями, залезло в долги, и при этом оно вынуждено играть в повышающийся рубль. То есть цену на нефть повышают - мы должны синхронно повышать рубль. Это плата за участие в общем празднике жизни. Но это сильно удорожает внутренние издержки. В итоге же у нас огромные, просто жуткие внутренние цены. Поэтому любое производство в России стало крайне невыгодным, по сравнению с развивающимися странами. Импорт намного выгоднее, доходность по импорту колоссальна. Когда прошла девальвация, торговцы уже заложили на всякий случай в товар 50% накрутку - так ее и держат. А внутри, чтобы вести бизнес в промышленности, производстве, все становится дорогим - и работники, и тарифы, и транспортировка. Производить в России невыгодно, выгодно закрыть и купить завод где-нибудь в Юго-Восточной Азии.А.Бунич""